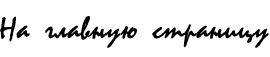Р. ДУГАНОВ
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА.
Отступление первое ОБ УЧИТЕЛЕ И УЧЕНИКЕ
Несмотря на разрыв с символизмом, в начале десятых годов Хлебников еще, по-видимому, ощущал какие-то внутренние связи если не со всем символистским кругом, то во всяком случае с М. Кузминым и В. Ивановым. Окончательно их взаимоотношения выяснились лишь весной 1912 года, когда Хлебников, живший тогда в Москве, приехал в Петербург. По всей вероятности, он спешил поделиться с Ивановым, который, несомненно, лучше кого бы то ни было мог его понять, своими первыми — и поразительными! — результатами исследований законов времени.
Никаких прямых свидетельств этой встречи не сохранилось. Но вот что писал Иванов в начале апреля 1912 года (по датировке Н. В. Котрелева) в стихотворении “Послание на Кавказ”, адресованном Юрию Верховскому:
Обедаем вчера на Башне мирно:
Семья, Кузмин, помещик-дилетант...
Да из птенцов юнейших Мусагета
Идеолог и филолог, забредший
Разведчиком астральным из Москвы,—
Мистической знобимый лихорадкой
(Его люблю, и мнится — будет он
Славянскому на помощь Возрожденью:
Wenn sich der Most auch ganz absurd gebSrdet,
Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein, — по Гёте).
В этом беглом наброске, кажется, можно узнать Хлебникова. (Надо ли говорить, что упоминаемый здесь Мусагет — несомненно Аполлон Водитель Муз, а никак не издательство “Мусагет”, к которому Хлебников не имел ни малейшего отношения?) И если оставить в стороне некоторые “астральные” и “мистические” излишества стиля, портрет молодого поэта на первый взгляд вполне благоприятен.
Однако на самом деле, как это свойственно поэтике Иванова, он построен в весьма изощренной литературной перспективе и по меньшей мере двусмыслен. Перспектива эта раскрывается посредством двух цитат, включенных в отрывок. Первая отсылает нас к пушкинскому “Посланию Дельвигу”, где в портрете бесцеремонного бурша, похитившего кости Дельвигова предка, как будто предсказан образ Хлебникова:
Косматый баловень природы,
И математик и поэт,
34
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
ИдеолОг и филолОг,
Короче вам — студент присяжный...
Другая цитата указывает на гётевского “Фауста”, а именно на второй акт второй части, где мы вновь встречаем некогда робкого школяра из первой части, ставшего теперь уже бакалавром и преисполненного молодого энтузиазма:
Куда хочу, протаптываю след,
В пути мой светоч — внутренний мой свет.
Им все озарено передо мною,
А то, что позади, объято тьмою. (Уходит.)
А бывший его учитель говорит ему вслед:
Ступай, чудак, про гений свой трубя!
Что б сталось с важностью твоей бахвальской,
Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской,
Которой бы не знали до тебя!
Разлившиеся реки входят в русло.
Тебе перебеситься суждено.
В конце концов, как ни бродило б сусло,
В итоге получается вино.
Вот эти последние две строки и цитировал в своем послании Иванов, как бы ссылаясь на “Гётеву мудрость”:
Wenn sich der Most auch ganz absurd gebardet,
Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein.
В переводе Б. Пастернака, которым мы воспользовались, этот афоризм сильно смягчен. Перевод Н. Холодковского точнее:
Как ни нелепо наше сусло бродит,—
В конце концов является вино.
Но и он не передает всей резкости выражения, так как в оригинале речь идет не просто о “брожении” и даже не о “нелепости”, а о “совершенной нелепости”, “полной бессмыслице” (ganz Absurd). И, как можно догадываться, встреча Хлебникова с Ивановым “на Башне” окончилась так же, как и сцена в “кабинете Фауста”.
Тем более что в этой сцене бакалавр встречается совсем не с Фаустом, как он думает, а все с тем же, морочившим ему
35
голову в первой части, переодетым Фаустом Мефистофелем. И эта ситуация тоже подразумевалась в послании Иванова, отсылая на три года назад, к их первым встречам с Хлебниковым. Тогда, в 1909 году, Иванов прямо посвятил ему стихотворение
ПОДСТЕРЕГАТЕЛЮ
Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! Я не бес,
Не искуситель — испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.
Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — ив вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.
И, совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг — я целиной богатой,
Оратай, провожу волов:
Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую взрезав борозду,
Из ясных звезд моей Любови
Посеять семенем — звезду.
И теперь, в “Послании на Кавказ” Иванов, несомненно, продолжал ту же игру в Фауста-Мефистофеля, вопреки собственным оправданиям (“я не бес”)1.
У Гёте в “Фаусте” сцена, после ухода бакалавра, заканчивается прямым обращением Мефистофеля — “к молодым зрителям в партере, которые не аплодируют”:
Вы не хотите мне внимать?
Не стану, дети, спорить с вами:
Черт стар,— и чтоб его понять,
Должны состариться вы сами.
(Перевод Н. Холодковского)
Без сомнения, понимая двусмысленность послания Иванова, вскоре опубликованного в его сборнике “Нежная тайна” (СПб., 1912), Хлебников ответил на него в поэме “Игра в аду”,
1
Ср. любопытное повторение ситуации в “Переписке из двух углов” Вячеслава Иванова и Гершензона (П., 1921, с. 28—29), где Иванов также прибегал к объяснениям: “Я же вовсе не Мефистофель...”Илл. 3

написанной совместно с А. Крученых,который называл эту поэму “насмешкой над архаическим чертом”:
Отверженный всегда спасен,
Хоть пятна рдеют торопливо,
Побродит он — И лучшее даст пиво.
36
Последние две строки, очевидно,— вольный перевод гётевской цитаты.
Но то была всего лишь, так сказать, горестная замета. Настоящим же ответом на “потустороннюю мудрость” стала его книга “Учитель и ученик”, само название которой намекало на известную сказку об ученике чародея, превзошедшем учителя.
Впрочем, нельзя отказать Вячеславу Иванову в какой-то лукавой последовательности. Как вспоминал Н. Асеев, в разговоре с ним, вероятно в связи с выходом первого тома “Творений” Хлебникова в 1914 году,— “Вяч. Иванов признавал, что творчество Виктора Хлебникова — творчество гения, но что пройдет не менее ста лет, пока человечество обратит на него внимание... Когда я спросил его, почему он, зная, что уже есть гениальный поэт, не содействует его популярности (в это время отзыв В. Иванова был обеспечением книги на рынке) и не напишет, что творчество Хлебникова — исключительно, В. Иванов с загадочной улыбкой ответил: “Я не могу и не хочу нарушать законов судьбы. Судьба же всех избранников — быть осмеянными толпой”1.
Возможно, в этом была своя правда. Но Хлебников думал о другом. В набросках повести “Ка2”, относящихся к началу 1916 года, он писал о Вячеславе Иванове:
Мои пылкие годы.
Когда он не был убелен, он мне напоминал еще Львиное Сердце. Ласковыми, уверенными движениями он возьмет вашу руку и прочтет неясное пророчество, и после взглянет внимательно и поправит два стеклышка.
В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их. Это меня огорчило. Я понял, что дружба, знакомство есть ток между различным числом сил, уравнивающий их” (СП, V, 128—129).
А еще позже, в пору возобновления их знакомства зимой 1920—1921 годов в Баку, Хлебников нарисовал портрет Вячеслава Иванова — запоминающийся образ, как бы овеянный величием и безнадежностью прошлого. “И я вспоминаю,— писал М. Альтман, свидетель последних встреч Хлебникова с Вячеславом Ивановым,— как на мой вопрос, отчего Вячеслав Иванов, которого он любил и чтил, не кажется ему идеальным, он ответил: да потому, что его жизнь не героическая”2.
1
Асеев Н. Московские записки.— Газ. “Дальневосточное обозрение”, 1920, 27 июня.2
Альтман М. Из того, что вспомнилось.—“Литературная газета”, 1У85, № 46(5060), 13 ноября.